Гинзбург евгения за что осуждена
Обновлено: 25.06.2024
Евгения Гинзбург родилась в Москве, 20 декабря, 1904, в семье уроженца Гродно, фармацевта Соломона Абрамовича (Натановича) Гинзбурга (1876—1938) и его жены Ревекки Марковны (1881—1949), уроженки Вильно.
В 1909 переехала с родителями в Казань, где училась в частной гимназии, а затем в школе.
После школы в 1920 году Евгения поступает в Казанский университет, на факультет общественных наук, затем переводится на 3-й курс общественного отделения Казанского Восточного педагогического института, где изучает историю и филологию. Заканчивает учебу в июне 1924 года (специальность история, в дальнейшем защитилась как кандидат исторических наук). Устраивается на работу в институт, преподает на…
Евгения Гинзбург родилась в Москве, 20 декабря, 1904, в семье уроженца Гродно, фармацевта Соломона Абрамовича (Натановича) Гинзбурга (1876—1938) и его жены Ревекки Марковны (1881—1949), уроженки Вильно.
В 1909 переехала с родителями в Казань, где училась в частной гимназии, а затем в школе.
После школы в 1920 году Евгения поступает в Казанский университет, на факультет общественных наук, затем переводится на 3-й курс общественного отделения Казанского Восточного педагогического института, где изучает историю и филологию. Заканчивает учебу в июне 1924 года (специальность история, в дальнейшем защитилась как кандидат исторических наук). Устраивается на работу в институт, преподает на тюркско-татарском рабфаке, в экспериментальной школе при пединституте. Подрабатывает воспитателем в детском саду, пишет статьи в газету "Красная Татария".
В 1924 году знакомится и вскоре выходит замуж за врача, преподавателя Первого ленинградского мединститута Дмитрия Федорова. Через два года у пары рождается сын Алексей. Однако, этот брак оказался недолговечным. Алексей же вместе с отцом гибнет в 1941 году в осажденном немцами Ленинграде.
В 1930 Евгения Гинзбург исполняла обязанности доцента на кафедре истории ВКП(б). Через два года - член ВКП(б), с 1933 - доцент на кафедре истории ленинизма Казанского государственного университета.
Примерно в это же время знакомится со своим будущим вторым мужем Павлом Аксеновым, который уже к тому времени сделал блестящую партийную карьеру - занимал пост председателя Казанского горсовета и являлся членом Центральной ревизионной комиссии.
В 1932 году у Аксенова и Гинзбург родился сын Василий, будущий писатель. В семье, кроме Василия и сына Гинзбург Алексея воспитывалась дочь Аксенова Майя. Евгения Гинзбург и Павел Аксенов занимают видное место в партийной иерархии Татарстана, получают квартиру, имеют свою машину с личным водителем, домработницу.
Павел Аксенов трудится на почетных постах. Евгения Гинзбург с 1932 по 1934 год учится в институте Марксизма-Ленинизма, в 1935-1937 гг. руководит русской секцией Союза советских писателей Татарии, одновременно заведует отделом культуры газеты "Красная Татария". Хорошо владеет немецким и французским языками.
Однако тучи уже сгущались. В 1935 году был арестован заведующий отделом международной информации газеты "Красная Татария", профессор истории Ельфов, которого обвинили в троцкизме. Гинзбург, по неписанным законам того времени, должна была распознать предателя в рядах своих сотрудников. Евгения Соломоновна отвергала все обвинения и верила и надеялась, что "вскоре все прояснится".
Не прояснилось. Евгении Гинзбург для начала объявили выговор за потерю политической бдительности, затем лишили права преподавания, исключили из партии и в конце концов, в феврале 1937 года арестовали. Приговор - тюремное заключение по статье 58, пункт 8, 11, "Групповой терроризм".
Гинзбург ничего не знала о происходящем на воле. Не знала, что уже арестованы родители (спустя два месяца их освободили), не знала об аресте и сроке мужа (15 лет), не знала, что стало с детьми. Между тем, старших детей - Майю (дочь Аксенова) и Алешу (сына Гинзбург), забрали к себе родственники. Васю, которому к тому времени не было и пяти лет, принудительно отправили в детский дом для детей репрессированных (бабушкам не разрешили оставить его у себя). В 1938 году брат Павла Аксенова разыскал маленького Васю в детдоме в Костроме и забрал его к себе. Вася жил у Аксеновых до 1948 года, пока его не забрала освободившаяся из лагеря мать. Василий поселился с Гинзбург в Магадане.
В 1949 году Гинзбург настиг повторный арест, на этот раз всего на месяц. Была сослана сначала в Красноярский край, а затем обратно на Колыму. 25 июня 1955 году Евгению Соломоновну реабилитировали.
Похоронена в Москве на Кузьминском кладбище.
Библиография
Женщина, которая рождена для счастья, чтобы любить и быть любимой, растить детей, учить прекрасному. Женщина, на чью долю выпали такие беды и несчастья, которые сломили бы даже крепких мужчин. Так отзывался литературовед и правозащитник Лев Копелев о Евгении Гинзбург. Биография писательницы и журналистки – очередное свидетельство страшных сталинских репрессий.
Детство и юность
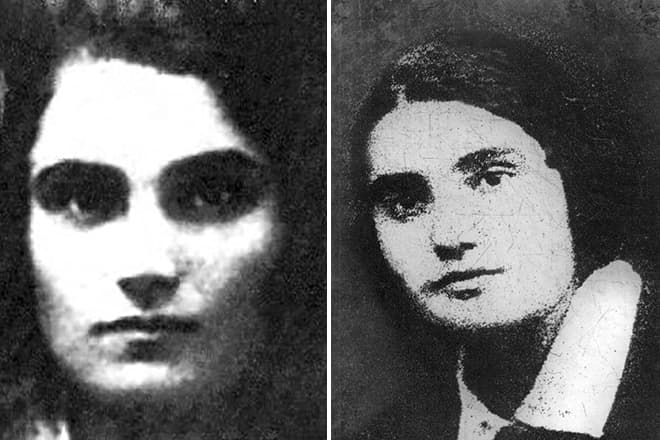
Евгения Гинзбург в молодости
В 28 лет, как положено преподавателю общественных наук, вступила в ряды коммунистической партии. Как потом сама писала, если бы приказали, отдала бы за нее жизнь. Сестра Наталья выбрала научную стезю - стала социологом, работала в Ленинградском финансово-экономическом институте, а еще писала стихи.
Творчество

Евгения Гинзбург

Писательница Евгения Гинзбург
Личная жизнь
Личная жизнь Евгении Гинзбург не менее драматична, как время, в которое она жила. В 20 лет девушка познакомилась с ленинградским врачом Дмитрием Федоровым, за которого вышла замуж. Через два года родился сын Алексей, но спустя время семья распалась. Отец и сын погибли в 1941 году в блокадном Ленинграде.
В 1930-м Гинзбург как делегат педагогического института, где она тогда работала, участвовала в партийной конференции в Москве. Там она познакомилась со своим вторым мужем Павлом Аксеновым. В 1932-м у пары родился сын Василий.

Евгения Гинзбург, ее муж Павел Аксенов и сын Василий
Павел Аксенов сделал хорошую карьеру по партийной линии: был председателем Казанского горсовета, членом бюро Татарского обкома КПСС. Семье предоставили элитную квартиру, служебный автомобиль, за Василием присматривала няня.

Евгения Гинзбург и Василий Аксенов
В 1937-м арестовали уже саму Гинзбург, позже и Аксенова. Оба, будучи ярыми приверженцами коммунистических идей, считали арест чудовищной ошибкой. Осудив по 58 статье, Евгению Гинзбург отправили на Колыму. Лагерное заключение можно было бы назвать удачей, поскольку осужденных по такой статье в большинстве расстреливали.
Находясь в заключении, Евгения трудилась в разных местах, в том числе и в лагерной больнице. Там же работал врач Антон Вальтер. С ним Гинзбург стала жить после освобождения в 1947 году оставшиеся годы ссылки в Магадане. Она добилась, чтобы сыну Василию разрешили приехать к ней. Вместе с Вальтером удочерила девочку Антонину.

Евгения Гинзбург и ее муж Антон Вальтер
Антонина - однокурсница Леонида Филатова и Ивана Дыховичного, профессиональная актриса, живет в Германии. Как она рассказала в интервью, мать не дождалась Васиного отца, так как ей сказали, что Павла расстреляли. Василия Аксенова после ареста родителей поместили в детский дом, откуда его с большим трудом забрали родственники отца, предварительно изменив мальчику имя и фамилию.

Евгения Гинзбург с семьей
Евгения Гинзбург, по словам дочери, в любой компании была в центре внимания, притягивала людей аристократизмом, живостью ума, оптимизмом, невероятной силой воли. Жизнь семьи строилась на обожании сына Василия, ставшего впоследствии всемирной знаменитостью. Василий Аксенов – писатель, публицист, автор популярных произведений.
Смерть
Умерла Евгения Гинзбург в 1977 году. Причиной смерти стал рак груди, болезнь писательница тщательно скрывала. Похоронена на Кузьминском кладбище в Москве.
Публикацию предваряли предисловия писателей Анатолия Рыбакова, Василя Быкова и вступление Антонины Аксеновой "О матери".
"Публикация дается без сокращений и исправлений по рукописи автора" - заявляла редакция журнала.











Из комментариев в Фейсбуке:
"Крутой поворот" читала, ужасалась. Но вот почему-то Олег Волков тоже прошедший лагеря в своей книге "Погружение в бездну" критикует Е.Гинзбург. Якобы она была партийка , которая стала неугодной и подверглась репрессиям.
А разве она это отрицает? Она даже по выходе из лагеря "не разуверилась". И таких было довольно много. Это никак не влияет на ее талант и возможность найти в себе силы описать весь творившийся там ужас с определенной степенью достоверности. Хуже всего пришлось тем, кто там погиб. В советской "официальной" литературе эти темы вообще не отражались. А тех, кто смог выжить, что-то сохранить и позже издать, часто обвиняли и в недостоверности, и в том, что их участь там была чуть лучше, чем у остальных. Но иначе мы никогда бы не узнали ни их, ни их судьбу, ни множество так тщательно скрываемых официальной историографией фактов истории страны.
Книга, которая произвела на меня колоссальное впечатление.
В своё время (в конце 80-х) эта книга меня потрясла. Проверила этот эффект на современной молодежи. Их потрясает тоже.
Книга очень интересная. Интересно и то, что Евгения не потеряла веру в партию, это меня сильно удивило. Может быть именно на этой почве и были ссоры и разногласия с сыном-Василием Аксеновым. Книгу надо прочесть тем, кто так хочет Сталина, может быть что-то изменится в мозгах.
Помню, моя мама очень ее уважала. Самиздатские ее тексты она получала от хорошей знакомой моих бабушки и дедушки, с которой они познакомились в ссылке, не то в лагере; но после 67г., когда "Крутой маршрут" опубликовали на западе, Евгения Соломоновна перестала давать свои тексты (вероятно, давала уже только самым близким друзьям), и до моей мамы они перестали доходить. Она читала ее в "Юности", и помню, как-то сказала, что рассказ "Васька - стихийный марксист", подписанный псевдонимом Е.Евгеньева, наверняка принадлежит Е.С.Гинсбург. А критиковать взгляды Гинсбург я бы не стал; О.Волков имел на это полное моральное право, а мы, по прошествии десятилетий, должны быть более беспристрастными.
Редактором "Даугавы" тогда был Владлен Дозорцев и журнал печатал замечательную прозу и публицистику,поэзию и критику.
Многие имена и произведения стали открытиями для читателей.
Литературный журнал СП Латвии выходил тиражом 110 тысяч экземпляров-для Латвии:газетный тираж!
Каждый номер ждали с нетерпением!
Читал с ужасом.Книга произвела большее впечатление, чем Архипелаг ГУЛАГ.
Прочла это произведение в 1980 году. Конечно, впечатление было очень сильное, в первую очередь в силу литературного таланта автора, тк о лагерях по всей стране и условиях там в основном было известно. Книга была напечатана в Париже, на русском языке, это были 4 томика небольшого формата. Мне их давали почитать в два этапа, по 2 томика. Естественно, переправлены они были нелегально в СССР, и подарены Е. Гинзбург своей подруге Зоре Борисовна Гандлевской, с которой вместе были в лагере и потом дружили всю жизнь. Итак, Зора Борисовна дважды мне давала по 2 тома, я везла их домой, прочитала, возвращала. Зачем я об этом пишу? Потому что до сих пор помню страх, преследовавший меня на всем пути следования до дома, а потом обратно. Жуткий страх. Я везу запрещенную литературу, нелегально провезенную в страну. И могу подвести многих людей. Это был 1980 год, давно не было уже массовых репрессий, а страх был, реальный, жуткий. Может, это была уже генетическая память от моих репрессированных предков, не знаю. Но это было.
И с моей бабушкой они были близкими подругами по Колыме (знакомый многим совхоз Эльген). Бабушке, Вильгельмине Руберт, посвящена пара страниц в "Крутом маршруте". Дружба продолжалась до конца жизни Е.С., бабушка пережила ее на 2 года. "Крутой маршрут" мы читали еще в рукописи с первым названием "Под крылом Люцифера". Е.С. была потрясающей рассказчицей. От нее среди прочего я услышала раннего Окуджавы - не пение, конечно, а стихи - "Девочка плачет. ". "Ванька Морозов", до сих пор помню интонации. И хорошо помню ее мужа, замечательного Антона Яковлевича Вальтера.
Она была подругой моей бабушки которая тоже прошла через все круги ада когдa дедушку расстреляли в 1938. Гинзбург была матерью хорошего писателя Василия Аксенова которого я встретил в Вашингтоне и мы много говорили про Казань.
Помню впечатление от прочитанного. Из-за светлой личности Е.Гинзбург не было ощущения ужаса и безнадежности,которое возникает после Шаламова.Она была удивительным человеком.
Евгения Гинзбург: "Не думала воочию этот ад увидеть".

Режиссер спектакля Галина Волчек о постановке "Крутого маршрута"
Как только стали публиковаться первые главы из книги Евгении Гинзбург "Крутой маршрут", я поняла: "Современник" должен перенести на сцену этот потрясающий документ эпохи.
Меня всегда интересовал человек, его судьба, проявление тех или иных черт его характера в экстремальных обстоятельствах. Особенно, женщина, ведь она не призвана быть героем, солдатом, не призвана совершать подвиги. Женщина гибче, выносливее, подчас компромисснее. Ей легче выжить физически. А за счет чего выживает Евгения Гинзбург, не предавая, не подписав ни одного лживого слова?
Было очень важно найти ответ на этот вопрос. Гинзбург попадает в тюрьму правоверной коммунисткой. Проходя через кошмар допросов и пыток, она как бы сбрасывает надетую на нее кожу сталинских догматов. Остается то, что на самом деле составляло ее существо: признание общемировых человеческих ценностей, христианской морали.
Она не была религиозной, но воспитывалась на русской культуре Х1Х века. И когда перевернутая мораль сталинизма столкнулась в Евгении Гинзбург с незыблемыми нравственными принципами великой русской культуры, она обрела ту точку опоры, которая дала ей силы не только физически выжить, а аду ГУЛАГа, но и, что гораздо сложнее, сохранить достоинство личности.

Отзывы прессы о спектакле "Крутой маршрут"
"Сценическая постановка мемуаров Евгении Гинзбург включает сцены странного, причудливого мира, напоминающего круги Дантова "Ада" или картин Гойи.
Сюрреалистический ужас сталинской тюремной системы впервые восстановлен на советской сцене в спектакле театра "Современник" и бесспорно стал одним из самых больших "хитов" московской театральной жизни. Эта попытка воссоздать ужас и безумие сталинских лагерей явно потрясла битком заполнившую зал театра московскую театральную публику, устроившую в конце спектакля режиссеру Галине Волчек и исполнителям несмолкаемую овацию, длившуюся пятнадцать минут."
"Вашингтон пост", 17 февраля 1989 года
"Марина Неёлова растворяет свою собственную личность в судьбе героини. В первые минуты актриса просто неузнаваема. Достоинство цельности, литая завершенность работы открыли в Неёловой дар трагедийной актрисы."
"Советская культура", 7 марта 1989 года
"В преисподней, населенной сталинскими жертвами, царит жестокость, разбавленная вспышками человечности и даже черного юмора. Постановка театра "Современник", верная духу мемуаров Гинзбург, показывает, что многие жертвы сохранили свою политическую веру, несмотря на нечеловеческие страдания, спустя полвека московские зрители реагируют на эту непосредственную чистую веру со смешанным чувством изумления и шока."
"Интернэйшнл геральд трибьюн", 22 февраля 1989 года
"Спектакль подчеркивает, что нравственные корни характера и поведения Гинзбург в моральной структуре и традиции Х1Х века. Миры разделяют эту хрупкую интеллигентную женщину и ее палачей. Замученная и униженная бесконечными допросами, истерзанная бессонницей, голодом и жаждой, едва способная шевелить губами, она все же остается твердой, так как она - и в этом ее сходство с поэтессой Анной Ахматовой - из мира, который дает ей нравственную опору."
"Нойе цюрихер цайтунг", 19-20 марта 1989 года
"Всей сутью своей ее (Марины Неёловой) героиня противостоит машине подавления, расшатывания. Маленькая хрупкая женщина несет в себе честь и достоинство, тихие, но уничтожению недоступные. С мощной притягательностью истинного искусства спектакль возвращает нас у духовным приоритетам, заставляет задуматься: где же та единственная основа, откуда только и может начаться самовосстановление, возрождение?"
" Сцена ликует. Кажется, никогда с такой иступленной радостью не звучало "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. " Поют так, что кажется секунда другая и такое воодушевление охватит, не может не охватить , зал. Но чем восторженнее звучит песня, с тем большим оцепенением внимает ей публика. Мертвая тишина устанавливается в театре - те, что на подмостках тоже разом вдруг смолкают, тьма на мгновение поглощает их фигуры, и, когда свет зажигается снова, перед рампой плечом к плечу плотной серой шеренгой - нет, не актрисы театра "Современник", а - наши сестры в арестантской одежде.
Может быть, именно ради этой минуты - минуты полной сопричастности судеб одних судьбам других - поставила спектакль "Крутой маршрут" режиссер Галина Волчек."
"Правда", 15 октября 1989 года
Очень точными выглядят в спектакле актрисы, исполняющие не очень большие роли, например, Лия Ахеджакова являет собой наглядное пособие по разработке деталей. Начинает она как надменная гранд-дама из новой коммунистической аристократии. Издевательства, мучения и голод превращают ее в полубезумное существо."
"Сиэтл пост интеллиденсер", 27 июля 1990 года
"Спектакль очень эмоционально насыщен. Работа театра "Современник" под руководством Галины Волчек абсолютно правдива. Совершенно очевидно, что в "Крутом маршруте" видны не только замечательные художественные и актерские возможности труппы, но и сердце и душа каждого актера."
"Сиэтл таймс", 17 июля 1990 года
"В течение целого вечера вы чувствуете ужасную душевную боль на спектакле Московского театра "Современник", который раскрывает Вам страшную главу из русской истории. Спектакль выдержан в суровом документальном тоне, и зритель напрямую сталкивается с ужасом. Так было, и так вы это видите. "Крутой маршрут" - в центре внимания театральной общественности на фестивале в Сиэтле."
"Сан-франциско кроникл", 1 августа 1990 года
"Спектакль "Современника" восстановил на сцене не столько ход событий, сколько психологическую атмосферу насилия. Совокупность замечательных актерских работ и профессиональной режиссуры Галины Волчек, подчеркнутые звуковыми образами - лязгом металлических решеток, криками истязаемых, заставляет нас столкнуться с ужасами террора. Это не просто пьеса, которую Вы смотрите, вы ее проживаете.
Марина Неёлова играет роль Гинзбург как дорогу к гибели. Эта женщина, которая не может просто идти по ровной дороге, не потому, что обладает повышенным чувством самосохранения - она протестует, она не способна на ложь. И все сильнее затягивает ее крутой маршрут собственной личности.
Заслуга Волчек в том, что она сумела показать психологическую сторону характеров. Эмоционально сильно она выявила как общество растворилось в оргии насилия и преступности.
Этот театр не развлекательный. Он окунает зрителя в свои спектакли, и неважно, хорошо там зрителю или нет, и чем больше театр будут так поступать тем лучше."
"Лос-анджелес таймс", 27 июля 1990





Журнал "Огонек" №22 за 1989 год.
Она родилась в семье Ревекки Марковны и Соломона Абрамовича Гинзбургов. Родители до революции держали в Москве аптеку, а после 1917 года перебрались в Казань.Надеялись, видимо, что революционная волна, смывавшая привычную жизнь, до Казани не докатится. Докатилась.
Пылкая еврейская девочка Женя увлеченно читает Маркса и Энгельса, восхищается героями революции и мечтает приносить пользу своей новой, свободной от царского ига стране. После школы поступает в Казанский университет на факультет общественных наук, потом переводится в Восточно-педагогический институт, изучает историю и филологию, много читает, активно участвует в студенческих мероприятиях.
Последние годы срока она работала медсестрой в лагерной больнице и воспитательницей в детском саду, что для бывшей политзаключенной было чудом.
Здесь же она познакомилась с врачом Антоном Вальтером, немцем по происхождению,с которым прожила оставшиеся годы ссылки. Гинзбург добилась, чтобы сыну Василию разрешили приехать к ней. Жизнь, пусть и ссыльная, стала напоминать нормальную.Однако по стране прокатилась новая волна репрессий, которая смыла и это зыбкое счастье.
Евгению Соломоновну снова арестовали, на этот раз всего на месяц. После второго ареста с работой не везло, от голодной смерти спасали частные уроки и пациенты мужа, которые были наслышаны о бывшем заключенном Вальтере, умевшем лечить лучше, чем в советских клиниках.
Страна затихла после бури, с трудом приходя в себя. В 1954 году Евгении Соломоновне удалось реабилитироваться и даже восстановиться в компартии по собственному желанию. Она и теперь верила в случайность своей трагедии, в то,что дело партии и сталинский культ личности не имеют между собой ничего общего.Реабилитировали и Антона Вальтера.

Художник Борис Биргер. Портрет Василия Аксенова. 1978 год

Художник Борис Биргер. Портрет Майи Кармен. 1978 год
М. ПЕШКОВА: Не стало Василия Павловича Аксёнова. Год и семь месяцев медики, независимо от чинов и званий, денно и нощно старались вернуть писателя в жизнь, за что им всем – медсёстрам и санитаркам, докторам и инструкторам по лечебной физкультуре, поверьте, это больше чем слова, низкий поклон и душевная благодарность. В который раз понимаешь, что на чудо можно только уповать. Оно происходит редко-редко…
Зимой 1997 года мы с мужем оказались в гостях у Василия Павловича в его квартире, в доме в Котельниках. Сегодня осмелюсь повторить программу, записанную 12 лет назад.
Он горячо начал протестовать против этого. В общем, она ушла. Я этого не помню совсем, они как-то так исчезали из моей четырёхлетней жизни, родители, сначала мать. Потом отец. Обычно было наоборот – сначала сажали отца, потом мать. Но маму посадили за полгода до отца. И ходили с обысками, запечатывали комнаты. У нас была довольно большая по тогдашним стандартам квартира, поскольку отец был председатель Горсовета, пятикомнатная, по-моему, квартира. И они так запечатывали комнаты.
И вот это то, что я помню, кстати говоря. Я очень любопытствовал, как это делается. Сидел там милиционер и запечатывал воском комнату, а я прямо умирал от любопытства, крутился вокруг него и смотрел, как он это делал. По-моему, не сразу все комнаты были запечатаны, а как-то одна за другой, они увозили какие-то реквизированные вещи, библиотеку. Вещей там было не так много, и довольно жалкий скарб там был, несмотря на то, что такие шишки в городских масштабах были. Ни черта они не накопили, ничего у них не было, кроме патефона. Ну и книги.
Я помню, как меня посадили в эту эмку, а две мои старухи, нянька и бабка, стояли на крыльце и выли, так по-русски, как русские бабы воют. Вот это я запомнил.
М. ПЕШКОВА: А что было потом?
В. АКСЁНОВ: Потом меня отвезли в детский коллектор, где собирались дети арестованных. И я проснулся в огромной спальне какой-то, где дети бешено дрались подушками и прыгали с кровати на кровать. Видимо, за ними надзор был плохой, и они там играли как-то дико довольно. И вот я лежал и смотрел, как надо мной летают подушки, проносятся голые ноги детей арестованных.
М. ПЕШКОВА: Вы же были совсем маленький, Вам было всего четыре годика!
В. АКСЁНОВ: Четыре года с чем-то. Вот это зрительные моменты, которые я запомнил. Потом один такой зрительный момент, хорошо запомнившийся мне, когда я из окна этого года, куда нас отвозили, дом был большой, стоял он за городом. Вдруг посреди поля стоял огромный трёхэтажный кирпичный дом. Что это был за дом, не знаю, явно дореволюционный дом. Он был огорожен забором, не помню, была ли там проволока, но как-то он хорошо был огорожен. И вот за этим забором я увидел свою бабушку, мать отца. Крошечная старушка такая стояла.
Она пришла как-то, пыталась, видно, пробиться ко мне. Она была безграмотная совершенно и, конечно, турнули они её оттуда. Потом с тёткой, кажется, они приходили. Но свиданий не было там. И вот оттуда они развозили детей в разные спецдома. Это тоже я помню. Купе, ГБэшница, тётка какая-то и трое детей, трое мальчиков, я в том числе, в четырёхместном купе. Она закрывала на ключ нас, и выходя, закрывала нас. Меня везли в Кострому, в Костромской детдом.
М. ПЕШКОВА: Они были похожи, да?
Там, видимо, выпил Андриан Васильевич. Мы вернулись в Казань и он меня отдал тёте, Ксении Васильевне, и я жил в шумной такой семье, в переполненной комнате, где дети Котельниковых, наших родственников близких. И тётя Ксения, и я там стал жить. А потом они меня отдали моей бабушке, маме матери, Ревеке Марковне, которую совсем незадолго до этого выпустили из тюрьмы. Их тоже забрали, стариков, деда и бабушку. Дед был когда-то аптекарем, у него была своя аптека в этом городе. И они искали спрятанное золото.
И мне там было невыносимо с ней находиться. Просто невыносимо! Я мечтал, чтобы меня забрали обратно к Котельниковым, в эту шумную семью. Что и произошло.
Спаслись ведь только те, кто был не на общих работах, те, кто был на общих работах, не спаслись совсем. Они все погибли. Мама тоже была на общих работах, но периодически. Потом она познакомилась с Антоном Яковлевичем Вальтером, они полюбили друг друга. Он доктор был, он тоже её спасал. Но она и до этого уже была какой-то медсестрой или медработником, каким-то образом она пристроилась к этой сфере.
Я чувствовал, возникала такая связь, тепло такое шло оттуда, тёплые вещи. И потом, наконец, она решила, что я должен приехать к ней, когда она уже вышла из лагеря. Она получила отдельную комнату, что было предметом гордости, комната в бараке. Это описано в книге. Я ничего этого не знал, когда я ехал. Мне не было ещё 16 лет, около 16 лет, когда это всё решалось. И как вообще она всё это организовала, я удивляюсь! Будучи только что освобождённой из лагеря. Ведь у этих людей совершенно терялась связь с внешним миром.
Зубы почему-то у него были совершенно нетронутые. Он прошёл бог знает через что в лагерях! И у него были совершенно нетронутые, белые, сверкающие зубы.
М. ПЕШКОВА: Как же цинга?
В. АКСЁНОВ: Я не понимаю совершенно. Я думаю, что он как-то умудрялся, как доктор-гомеопат, находить там какие-то травки и делать какие-нибудь настойки себе. И таким образом спасался от цинги. И вот такой доктор ходил, его приглашали жёны начальства, дамы магаданского света. И он их пользовал, он их вылечивал, и очень удачным был доктором. Они ему давали то банку тушёнки, то денег довольно много. Денег там народ не считал, там было очень много денег у людей, получали надбавки северные.
М. ПЕШКОВА: Это были огромные деньги.
Бабушка была моя ещё жива, Ревека Марковна. Мы с ней из Казани приехали в Москву, а я был совершенно провинциальный мальчик, ничего не знал. И она меня передала Нине Константиновне. И я стал жить в Москве, ждать отъезда. Около двух месяцев я жил на Мархлевского, на Сретенском бульваре. И был совершенно потрясён Москвой. Для меня это было одно из главных потрясений радостных в моей жизни. Гораздо более сильное впечатление на меня произвела Москва, чем позднее Париж. Это что-то невероятное! Открытие мира.
А потом мы поехали с Ниной Константиновной через весь этот континент, на самолётах, мало тогда летали на самолётах. Мы вылетели из Внуково, крошечный такой аэродром тогда был, на 12-местном самолёте, летели медленно, в воздушные ямы он бухался всё время.
М. ПЕШКОВА: Это кукурузник был?
М. ПЕШКОВА: Первые впечатления какие были?
В. АКСЁНОВ: Потрясающие впечатления! Это для меня как Джеклондониана какая-то была. Я был в полном восторге! В совершенно невероятном восторге! Это как Аляска для Джека Лондона была. После провинциальной жизни в Казани, убожества такого какого-то постоянного, вот, самолёты, Москва. А в Москве с парнями, намного меня старше, общался. Не помню, описывал я или нет. Сын Нины Константиновны был шофёром такси московского. И ездил на БМВ трофейном, и он был таксистом. И такой пройдоха, настоящий пройдоха московский!
И когда мы прилетели туда, в Магадан, Нина Константиновна поехала в свой дом, а мама не знала, что мы прилетели. И мы приехали в этот дом, который был на углу улицы Ленина и улицы Сталина. Большущий дом, шестиэтажный, где жили эти представители органов всяких. И приехал зять с работы, бутылки открываются, веселье, Нина Константиновна с материка привезла что-то вкусное, начался кутёж. Неприятное, совсем не то, что Лёшка шофёр, эти ребята. Это совсем не то. Это офицеры, с погонами, гнусные такие, похабненькие такие.
М. ПЕШКОВА: И морды неприятные.
В. АКСЁНОВ: Морды неприятные. И разговор какой-то неприятный. И ко мне страшно неприятно относятся они. Вот, мол, привезли к зечке. Вот это ощущение. Я впервые это почувствовал. Я никогда этого не чувствовал, но я почувствовал, что я принадлежу здесь к какой-то низшей категории людей. И послали за мамой.
М. ПЕШКОВА: С этого момента началась магаданская жизнь Василия Аксёнова. Продолжение программы в следующее воскресное утро.
Но только никому не дано знать, когда же мы покинем этот мир.


Александр Тарасов
На этих фото - Евгения Соломоновна Гинзбург.
Но вернёмся в то время, когда Евгения Гинзбург была отправлена на Колыму - через страшные пересылки, тюрьмы, лагеря, замурованные вагоны. И она, раздавленная машиной сталинского террора, унижения и насилия, увидит истинную суть советской страны.
Показать полностью.
Минус 40. Лесоповал. Хрупкая, измождённая месячной пересылкой Евгения Соломоновна выживает с большим трудом. 100 граммов хлеба в день. Много раз она была на грани жизни и смерти. Спасали редкие дни работы на кухне. Иногда ей поручали убирать барак Гинзбург почему-то нравилась "бригадирше"-уголовнице. Позже её обвинят в том, что и в лагере она предпочла элиту, что в её книгах бывшие крестьяне, рабочие, пролетарии - просто статисты, схематичные и безликие. Обвинят в том, что, ещё будучи на свободе, нисколько не переживала, когда узнавала о массовых арестах людей из низших классов, что болью ей стали отзываться лишь аресты "своих".
Последние годы срока она работала медсестрой в лагерной больнице и воспитательницей в детском саду, что для бывшей политзаключённой было чудом.
Здесь же она познакомилась с врачом Антоном Вальтером, немцем по происхождению, с которым прожила оставшиеся годы ссылки. Гинзбург добилась, чтобы сыну Василию разрешили приехать к ней. Жизнь, пусть и ссыльная, стала напоминать нормальную. Однако по стране прокатилась новая волна репрессий, которая смыла и это зыбкое счастье. Евгению Соломоновну снова арестовали, на этот раз всего на месяц. После второго ареста с работой не везло, от голодной смерти спасали частные уроки и пациенты мужа, которые были наслышаны о бывшем заключённом Вальтере, умевшем лечить лучше, чем в советских больницах.
Но Гинзбург не сдаётся: сына Васю надо доучить в школе. В 1952 году её восстановили в гражданских правах, правда, лишь в пределах Колымы - для всей остальной страны она оставалась бывшей "зэчкой", отсидевшей своё, но не реабилитированной. А в 1953 году все повторилось - снова аресты, раскрытые заговоры, сотни "врагов народа". Она опять вздрагивает от каждой проезжающей под окнами машины, ждёт, что вновь арестуют. Но в самый разгар нового террора умирает кровавый изувер Сталин.


Александр Тарасов
На этих фотографиях - Евгения Соломоновна Гинзбург.
. Страна начала затихать после бури, с трудом приходя в себя. В 1954 году Евгении Соломоновне удалось реабилитироваться и даже восстановиться в компартии по собственному желанию. Она и теперь верила в случайность своей трагедии, в то, что дело партии и сталинский культ личности не имеют между собой ничего общего.
Показать полностью. Реабилитировали и Антона Вальтера. Пара переехала во Львов. Однако на свободе третий муж Гинзбург прожил всего пять лет - в 1959 году его не стало. Подвело подорванное ссылкой здоровье - вернулась лагерная цинга. Евгения Соломоновна пишет статьи в журнал "Юность", преподаёт и берётся за мемуары. Она мечтает переехать в Москву, но, несмотря на полную реабилитацию, вернуться в родной город она сможет лишь в 1966 году.
В лагере она спасалась тем, что старалась наблюдать за внутренней жизнью как бы со стороны, отстранившись. Теперь, уже во Львове, стала записывать свои наблюдения - так появилась жёсткая книга "Под сенью Люциферова крыла", изобличавшая преступления Сталина. Но тут снова "началось" - и Гинзбург испугалась. "Сожгла. Испугалась и всё сожгла" - рассказывала позже она. Но не забыла.
Спустя некоторое время она снова села писать. На этот раз обошлась без общих критических замечаний, многое смягчила. И всё же написала одно из самых ярких и страшных свидетельств того времени. Рукопись своего романа "Крутой маршрут. Хроника времён культа личности" отправила в журналы "Юность" и "Новый мир" в середине 1960-х годов. Там её любили и знали, там публиковали её статьи и воспоминания: "Так начиналось. Записки учительницы", "Единая трудовая", "Студенты двадцатых годов", "Юноша". Но "Крутой маршрут" оказался совсем другой книгой. В нём не было ни романтики становления новой страны, ни интересных педагогических наблюдений, ни рассуждений о системе образования. Здесь было свидетельство массовых преступлений - такое беспощадное, что, даже несмотря на изрядно ослабевшую хватку властей, опубликовать его никто не решался. Рукопись отправили в архив института Маркса-Энгельса-Ленина с формулировкой "может пригодиться для изучения истории партии".
Книгу осудил Твардовский: "Она заметила, что не всё в порядке, когда стали сажать коммунистов. А когда истребляли крестьянство, она считала это вполне естественным". Его оценка стала препятствием для публикации романа в "Новом мире". Но "прервать" "Крутой маршрут" было уже невозможно. Рукопись переписывали, перепечатывали, передавали друг другу подпольно, кто-то надиктовал её на магнитофонную плёнку. Каким-то невероятным образом книга "уплыла" на Запад. В 1967 году в Италии выпустили два тиража "Крутого маршрута" - на русском и итальянском языках. Отрывки из книги читают на ВВС, её перепечатывают в Германии. Гинзбург пугает такая шумиха, но сжечь уже ничего нельзя. Можно только дать интервью, чтобы заявить, что книга опубликована без ведома автора.


Александр Тарасов
На этих фотоснимках - Евгения Соломоновна Гинзбург.
. Тем временем "Крутой маршрут" начинает жить своей жизнью. По свидетельствам того времени, он разошёлся в самиздате так широко, что его подпольный тираж вполне мог превысить самые большие официальные выпуски. Но в Союзе книгу по-прежнему не издают.
Показать полностью. Печатают новые статьи и воспоминания Евгении Соломоновны, даже отпускают её в Европу (к тому времени её сын, Василий Аксёнов, становится всемирно известным писателем и отправляется в путешествие вместе с матерью), где она встречается с Марком Шагалом, Виктором Некрасовым, Генрихом Беллем.
Воспоминания об аде, в котором она провела 18 лет, не отпускали Гинзбург до конца жизни. Ей часто становилось страшно, часто казалось, что вот сейчас снова постучат в дверь. "Рецидивы страха, - впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги, - я порой испытываю при ночных звонках у двери, при повороте ключа с наружной стороны", — признавалась она.
В очередной и уже в последний раз беда пришла с другой стороны. Врачи поставили страшный диагноз: рак груди. Долгое время она боролась с болезнью в одиночестве, не желая тревожить близких. Болезнь быстро отнимала и без того подорванные силы. Она ушла из жизни в Москве 25 мая 1977 года, пережив и репрессированных родителей, и троих мужей, и старшего сына, и так и не дождавшись публикации своей главной книги на родине. Это произошло лишь через 11 лет после её ухода. Только в 1988 году, уже во время освободительной перестройки Михаила Горбачёва, власти, наконец, позволили опубликовать "Крутой маршрут" - уникальную и страшную "хронику времён культа личности", которую почти два десятка лет люди читали тайно, под полой.


Александр Тарасов
На этих фото - разные издания романа "Крутой маршрут".
В июльском номере за 1988 год литературного журнала "Даугава" началась первая официальная публикация книги Евгении Гинзбург "Крутой маршрут. Хроника времён культа личности".
Публикацию предваряли предисловия писателей Анатолия Рыбакова, Василя Быкова и вступление Антонины Аксёновой "О матери".
Показать полностью.
Приветствуя публикацию книги, Анатолий Рыбаков писал: "Это страшная книга и это прекрасная книга. Она разверзла перед нами бездну человеческих страданий и показала величайший образец несгибаемости человеческого духа. Эту книгу написал свидетель честный и беспощадный. С каждой страницей он погружает нас в царство беззакония и произвола, в мир унижений, пыток, холода, голода, смерти, в ад великого ужаса, погубившего миллионы людей и внушившего неистребимый страх оставшимся в живых."
Василь Быков, предваряя публикацию книги, назвал её "незаурядным произведением литературы". Он писал: "Вещи, о которых здесь идёт речь, с трудом постигаются обычным человеческим сознанием, хотя при чтении этих строк нигде не возникает и тени сомнения в их искренности и достоверности - правда вопиет из каждого слова во всей своей наготе и неотвратимости."
Отдельным изданием роман "Крутой маршрут" впервые вышел в 1989 году в Риге, а затем неоднократно переиздавался.


Александр Тарасов
15 февраля 1989 года в московском театре "Современник" состоялась премьера спектакля Галины Волчек "Крутой маршрут" на основе книги Евгении Гинзбург.
И вот что режиссёр спектакля Галина Борисовна Волчек говорила о постановке "Крутого маршрута":
"Как только стали публиковаться первые главы из книги Евгении Гинзбург "Крутой маршрут", я поняла: "Современник" должен перенести на сцену этот потрясающий документ эпохи.
Показать полностью.
Меня всегда интересовал человек, его судьба, проявление тех или иных черт его характера в экстремальных обстоятельствах. Особенно, женщина, ведь она не призвана быть героем, солдатом, не призвана совершать подвиги. Женщина гибче, выносливее, подчас компромисснее. Ей легче выжить физически. А за счёт чего выживает Евгения Гинзбург, не предавая, не подписав ни одного лживого слова?
Было очень важно найти ответ на этот вопрос. Гинзбург попадает в тюрьму правоверной коммунисткой. Проходя через кошмар допросов и пыток, она как бы сбрасывает надетую на неё кожу сталинских догматов. Остаётся то, что на самом деле составляло её существо: признание общемировых человеческих ценностей, христианской морали.
Она не была религиозной, но воспитывалась на русской культуре XIX века. И когда перевёрнутая мораль сталинизма столкнулась в Евгении Гинзбург с незыблемыми нравственными принципами великой русской культуры, она обрела ту точку опоры, которая дала ей силы не только физически выжить в аду ГУЛАГа, но и, что гораздо сложнее, сохранить достоинство личности. "
На первом фото - финал спектакля "Крутой маршрут" театра "Современник", когда актёры вместе с режиссёром Галиной Волчек вышли на поклон.
На втором фотоснимке - за кулисами театра "Современник", за столом в центре - писатель Василий Аксёнов, сын Евгении Гинзбург.


Александр Тарасов
Отзывы прессы о спектакле "Крутой маршрут":
"Сценическая постановка мемуаров Евгении Гинзбург включает сцены странного, причудливого мира, напоминающего круги Дантова "Ада" или картин Гойи.
Сюрреалистический ужас сталинской тюремной системы впервые восстановлен на советской сцене в спектакле театра "Современник" и бесспорно стал одним из самых больших "хитов" московской театральной жизни.
Показать полностью. Эта попытка воссоздать ужас и безумие сталинских лагерей явно потрясла битком заполнившую зал театра московскую театральную публику, устроившую в конце спектакля режиссёру Галине Волчек и исполнителям несмолкаемую овацию, длившуюся пятнадцать минут."
("Вашингтон пост", 17 февраля 1989 года.)
"Марина Неёлова растворяет свою собственную личность в судьбе героини. В первые минуты актриса просто неузнаваема. Достоинство цельности, литая завершённость работы открыли в Неёловой дар трагедийной актрисы."
("Советская культура", 7 марта 1989 года.)
"В преисподней, населённой сталинскими жертвами, царит жестокость, разбавленная вспышками человечности и даже чёрного юмора. Постановка театра "Современник", верная духу мемуаров Гинзбург, показывает, что многие жертвы сохранили свою политическую веру, несмотря на нечеловеческие страдания, спустя полвека московские зрители реагируют на эту непосредственную чистую веру со смешанным чувством изумления и шока."
("Интернэйшнл геральд трибьюн", 22 февраля 1989 года.)
"Спектакль подчёркивает, что нравственные корни характера и поведения Гинзбург в моральной структуре и традиции XIX века. Миры разделяют эту хрупкую интеллигентную женщину и её палачей. Замученная и униженная бесконечными допросами, истерзанная бессонницей, голодом и жаждой, едва способная шевелить губами, она всё же остаётся твёрдой, так как она - и в этом её сходство с поэтессой Анной Ахматовой - из мира, который даёт ей нравственную опору."
("Нойе цюрихер цайтунг", 19-20 марта 1989 года.)
"Сцена ликует. Кажется, никогда с такой иступлённой радостью не звучало "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. " Поют так, что кажется - секунда-другая - и такое воодушевление охватит, не может не охватить, зал. Но чем восторженнее звучит песня, с тем большим оцепенением внимает ей публика. Мёртвая тишина устанавливается в театре - те, что на подмостках, тоже разом вдруг смолкают, тьма на мгновение поглощает их фигуры, и, когда свет зажигается снова, перед рампой плечом к плечу плотной серой шеренгой - нет, не актрисы театра "Современник", а - наши сёстры в арестантской одежде.
Может быть, именно ради этой минуты - минуты полной сопричастности судеб одних судьбам других - поставила спектакль "Крутой маршрут" режиссёр Галина Волчек."
("Правда", 15 октября 1989 года.)
Очень точными выглядят в спектакле актрисы, исполняющие не очень большие роли, например, Лия Ахеджакова являет собой наглядное пособие по разработке деталей. Начинает она как надменная гранд-дама из новой коммунистической аристократии. Издевательства, мучения и голод превращают её в полубезумное существо."
("Сиэтл пост интеллиденсер", 27 июля 1990 года.)
На этих фото - фрагменты спектакля "Крутой маршрут" театра "Современник", на сцене - актрисы Марина Неёлова и Лия Ахеджакова.
Читайте также:

