В каком году пастернаку была присуждена нобелевская премия
Обновлено: 02.07.2024
В 1908 г. Борис Пастернак с отличием окончил Пятую классическую гимназию Москвы. В том же году был зачислен на юридический факультет Московского университета (ныне - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). Через год перешел на философское отделение историко-филологического факультета. Летом 1912 г. изучал философию в Марбургском университете (Германия). Окончил Московский университет в 1913 г.
В годы учебы Борис Пастернак участвовал во встречах московских литературных кружков. В 1913 г. в альманахе "Лирика" были опубликованы пять его стихотворений, в декабре того же года вышел поэтический сборник "Близнец в тучах".
Из-за полученной в детстве травмы ноги Борис Пастернак не подлежал призыву в армию. В 1916-1917 гг., во время Первой мировой войны, он работал конторщиком на уральских химических заводах. В декабре 1916 г. был издан его поэтический сборник "Поверх барьеров".
Во время революций 1917 г. Борис Пастернак находился в Москве. После прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. публиковался в газетах "Воля труда", "Рабочий мир", "Знамя труда", затем работал в Комиссии по охране культурных ценностей при Наркомате просвещения, которую возглавлял поэт Валерий Брюсов. Позже работал редактором в железнодорожной газете "Гудок".
В 1922 г. вышел сборник стихотворений Пастернака "Сестра моя - жизнь", годом позже - сборник "Темы и вариации".
В 1920-х гг. Борис Пастернак создал поэмы "Высокая болезнь" (1923-1928), "Девятьсот пятый год" (1925-1926) и "Лейтенант Шмидт" (1926-1927), в которых обратился к общественной и историко-революционной тематике. В 1931 г. вышли его роман в стихах "Спекторский" и автобиографическая повесть "Охранная грамота".
С середины 1930-х гг. Борис Пастернак переводил произведения классиков мировой литературы - Уильяма Шекспира, Иоганна Вольфганга Гете, Фридриха Шиллера, а также грузинских поэтов.
В 1934 г. был принят в Союз писателей СССР. С 1936 г. преимущественно проживал и работал на даче в поселке Переделкино (ныне - Новомосковский административный округ Москвы).
С октября 1941 г. по июнь 1943 г. Борис Пастернак находился в эвакуации в Чистополе (Татарская АССР, ныне - Республика Татарстан). Писал стихи о героях и тружениках военного времени. В августе - сентябре 1943 г. в составе писательской бригады выступал в 3-й армии Брянского фронта, освободившей г. Орел.
С 1945 по 1955 г. Борис Пастернак работал над романом "Доктор Живаго" о судьбе русского интеллигента на фоне революционных событий 1917 г., Гражданской и Великой Отечественной войны. Произведение отражало разочарование автора в идеалах революции и его приверженность идеям христианского гуманизма. Литературные журналы "Новый мир" и "Знамя", которым Пастернак предложил напечатать роман, затягивали с ответом. Понимая маловероятность их согласия, писатель решил опубликовать "Доктора Живаго" за границей и в мае 1956 г. передал рукопись представителям итальянского издателя Джанджакомо Фельтринелли. В сентябре того же года он получил письмо редакторов "Нового мира", в котором сообщалось, что о публикации романа на страницах журнала "не может быть и речи".
В ноябре 1957 г. роман был выпущен на итальянском языке, в начале 1958 г. - вышел на английском и французском языках (зарубежное русскоязычное издание появилось в 1959 г.).
23 октября 1958 г. с формулировкой "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа" Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе.
25 октября в "Литературной газете" вышла редакционная статья "Провокационная вылазка международной реакции" с критикой Пастернака и его романа. В ней отмечалось, что "присуждение награды за художественно убогое, злобное, исполненное ненависти к социализму произведение - это враждебный политический акт, направленный против Советского государства" и что "Доктор Живаго" был отклонен в 1956 г. редакциями советских журналов и издательств "как контрреволюционное, клеветническое произведение". 26 октября газета "Правда" разместила статью публициста Давида Заславского "Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка", содержавшую выпады и оскорбления в адрес Пастернака. 27 октября он был исключен из Союза писателей СССР.
29 октября Пастернак отправил в Нобелевский комитет в Стокгольме телеграмму, в которой сообщил о добровольном отказе от премии "в силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу". В тот же день первый секретарь ЦК ВЛКСМ (в будущем - председатель Комитета государственной безопасности СССР) Владимир Семичастный в публичном выступлении в присутствии первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева сравнил Пастернака с "паршивой овцой" и заявил, что общественность бы приветствовала отъезд писателя из страны.
31 октября по итогам общего собрания писателей Москвы была принята резолюция с просьбой в адрес правительства СССР о лишении "предателя Б. Пастернака советского гражданства".
2 ноября газета "Правда" опубликовала письмо Пастернака Хрущеву, в котором писатель заявлял, что не мыслит "своей судьбы отдельно и вне" России и просил не принимать по отношению к себе "крайней меры" в виде высылки за рубеж. 6 ноября в "Правде" было размещено письмо Пастернака в адрес редакции этой газеты (перед этим оригинальный текст подвергся существенным изменениям в Отделе культуры ЦК КПСС). Автор писал, что у него "никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу" и выражал сожаление из-за того, что вовремя не осознал возможность восприятия читателями "Доктора Живаго" как произведения, направленного "против Октябрьской революции и основ советского строя". После этого критическая литературно-общественная кампания в отношении Пастернака постепенно пошла на убыль.
В конце 1950-х гг. Борис Пастернак работал над поэтическим циклом "Когда разгуляется". Скончался 30 мая 1960 г. в Переделкино на 71-м году жизни от рака легких. Похоронен на Переделкинском кладбище.
После смерти Бориса Пастернака в Советском Союзе выходили сборники его поэзии, в 1965 г. была издана трагедия Уильяма Шекспира "Король Лир" в его переводе. На его стихи написан ряд песен, одна из них, "Никого не будет в доме…", в исполнении Сергея Никитина прозвучала в популярном фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" (1976). Сочинения Бориса Пастернака переведены на десятки иностранных языков.
Во время перестройки, в феврале 1987 г. Союз писателей СССР отменил решение об исключении из организации Бориса Пастернака. В январе - апреле 1988 г. роман "Доктор Живаго" был опубликован в журнале "Новый мир", в 1989 г. - вышел отдельным изданием. Роман был несколько раз экранизирован.
В октябре 1989 г. Нобелевская медаль и диплом Бориса Пастернака были вручены его сыну Евгению.
23 октября 1958 года Борис Пастернак был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе. Однако, как известно, писатель был вынужден отказаться от премии, а объявленная против него травля привела его к тяжелой болезни и скорой смерти. О тех испытаниях, которые выпали на его долю осенью 1958 года, и о том, как более тридцати лет спустя медаль и диплом Нобелевского лауреата были переданы семье писателя, — в рассказе его сына Евгения Пастернака.
Среди событий, связанных со столетием Бориса Пастернака, особое место занимает решение Нобелевского комитета восстановить историческую правду, признав вынужденным и недействительным отказ Пастернака от Нобелевской премии, и вручить диплом и медаль семье покойного лауреата. Присуждение Пастернаку Нобелевской премии по литературе осенью 1958 года получило скандальную известность. Это окрасило глубоким трагизмом, сократило и отравило горечью остаток его дней. В течение последующих тридцати лет эта тема оставалось запретной и загадочной.
Пастернак узнавал об этом косвенно — по усилению нападок отечественной критики. Иногда он вынужден был оправдываться, чтобы отвести прямые угрозы, связанные с европейской известностью:
Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь, опять-таки, не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось. Вот ведь Вавилонское пленение.
Пастернак ответил, что ничто его не заставит отказаться от оказанной ему чести, что он уже ответил Нобелевскому комитету и не может выглядеть в его глазах неблагодарным обманщиком. Он также отказался наотрез пойти с Фединым на его дачу, где сидел и ждал его для объяснений заведующий отделом культуры ЦК Д.А. Поликарпов.
Посылая благодарственную телеграмму в Нобелевский комитет, я не считал, что премия присуждена мне за роман но за всю совокупность сделанного, как это обозначено в ее формулировке. Я мог так считать, потому что моя кандидатура выдвигалась на премию еще в те времена, когда романа не существовало и никто о нем не знал.
Ничто не заставит меня отказаться от чести, оказанной мне, современному писателю, живущему в России, и, следовательно, советскому. Но деньги Нобелевской премии я готов перевести в Комитет защиты мира.
Гордая и независимая позиция помогала Пастернаку в течение первой недели выдерживать все оскорбления, угрозы и анафематствования печати. Он беспокоился, нет ли каких-нибудь неприятностей у меня на работе или у Лени в университете. Мы всячески успокаивали его. От Эренбурга я узнавал и рассказывал отцу о том, какая волна поддержки в его защищу всколыхнулась в эти дни в западной прессе.
Луч утреннего солнца, пробившись сквозь занавеси, разбудил меня, я вскочил и увидел рукав морской лагуны, мосты, пароходы, готовые отчалить на острова архипелага, на котором расположен Стокгольм. На другом берегу холмом круглился остров старого города с королевским дворцом, собором и зданием биржи, где Шведская академия занимает второй этаж, узкими улочками, рождественским базаром, лавочками и ресторанчиками на всякий вкус. Рядом на отдельном острове стояло здание парламента, на другом — ратуша, оперный театр, и над садом шел в гору новый торговый и деловой город.
Мы провели этот день в обществе профессора Нильса Оке Нильсона, с которым познакомились тридцать лет назад в Переделкине, когда он летом 1959 года приезжал к Пастернаку, и Пера Арне Будила, написавшего книгу о евангельском цикле стихотворений Юрия Живаго. Гуляли, обедали, смотрели великолепное собрание Национального музея. Сотрудники газеты расспрашивали о смысле нашего приезда.
На следующий день, 9 декабря, на торжественном приеме в Шведской академии в присутствии нобелевских лауреатов, послов Швеции и СССР, а также многочисленных гостей непременный секретарь академии профессор Сторе Аллен передал мне Нобелевскую медаль Бориса Пастернака.
Он прочел обе телеграммы, посланные отцом 23 и 29 октября 1958 года, и сказал, что Шведская академия признала отказ Пастернака от премии вынужденным и по прошествии тридцати одного года вручает его медаль сыну, сожалея о том, что лауреата нет уже в живых. Он сказал, что это исторический момент.
Ответное слово было предоставлено мне. Я выразил благодарность Шведской академии и Нобелевскому комитету за их решение и сказал, что принимаю почетную часть награды с чувством трагической радости. Для Бориса Пастернака Нобелевская премия, которая должна была освободить его от положения одинокого и гонимого человека, стала причиной новых страданий, окрасивших горечью последние полтора года его жизни. То, что он был вынужден отказаться от премии и подписать предложенные ему обращения в правительство, было открытым насилием, тяжесть которого он ощущал до конца своих дней. Он был бессребреником и безразличен к деньгам, главным для него была та честь, которой теперь он удостоен посмертно. Хочется верить, что те благодетельные изменения, которые происходят сейчас в мире, и сделали возможным сегодняшнее событие, действительно приведут человечество к тому мирному и свободному существованию, на которое так надеялся мой отец и для которого он работал. Я передаю очень приблизительно содержание своих слов, поскольку не готовил текст и слишком волновался, чтобы теперь точно его воспроизвести.
Торжественные церемонии 10 декабря, посвященные вручению премий 1989 года, бессознательно связались в моем восприятии с Шекспиром и его Гамлетом. Мне казалось, я понял, для чего была нужна Шекспиру скандинавская обстановка этой драмы. Чередование коротких торжественных слов и оркестра, пушечные салюты и гимны, старинные костюмы, фраки и платья декольте. Официальная часть проходила в филармонии, банкет на тысячи участников и бал — в ратуше. Тоска по средневековью чувствовалась в самой архитектуре ратуши, в окружавших зал галереях, но живое веяние народного духа и многовековой традиции звучало в студенческих песнях, трубах и шествиях ряженых, которые по галереям спускались в зал, обносили нас кушаньями и сопровождали выход короля и королевы, нобелевских лауреатов и почетных гостей.
Трагическим голосом Гамлетова монолога на Клавдиевом пире пела виолончель, в бездонной музыке Баха звучала тоскующая боль гефсиманской ноты:
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
После банкета Ростропович и Галина Вишневская провели нас в гостиную, где король с королевой принимали почетных гостей. Мы были представлены им и обменялись несколькими дружественными словами. На следующее утро мы вылетели в Москву.

23 октября 1958 года было объявлено о присуждении Нобелевской премии по литературе писателю Борису Пастернаку. До этого он выдвигался на премию в течение нескольких лет – с 1946 по 1950 годы. В 1958 году его кандидатуру предложил лауреат прошлого года Альбер Камю. Пастернак стал вторым после Ивана Бунина отечественным писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе.
В опубликованных ведомством директивах, в частности, говорится, что американская разведслужба поддерживала издание книги и предписывала опубликовать её максимально возможным тиражом.
Также отмечается, что ЦРУ способствовало распространению среди советских граждан и других произведений, которые в СССР находились под официальным или негласным запретом. Среди них много сатирических произведений и публицистики.
В своем докладе исследователь поведал почти детективную историю рукописи пастернаковского романа. Толстой, работая в американских архивах, выяснил, что текст романа на русском языке был доставлен в Нобелевский комитет при помощи агентов ЦРУ: им удалось получить рукопись романа и издать его. А в 1958 году Пастернак за "Доктора Живаго" был удостоен Нобелевской премии по литературе. По мнению Толстого, американская разведка использовала роман в качестве идеологического оружия против тоталитарного советского строя.
Весной 1958 года, когда Альбер Камю выдвинул Бориса Пастернака на Нобелевскую премию, выяснилось, что по условиям Шведской Академии, произведение автора должно быть издано на языке оригинала. Однако выяснилось, что на языке оригинала произведений автора за пределами СССР нет. Кроме, пожалуй, одного издания на итальянском - Фельтринелли, но этого было недостаточно.
В советском Союзе о выходе Доктора Живаго тогда не могло идти и речи. Поэтому друзья литератора из Европы решили выпустить издание на русском на западе. Экземпляр рукописи, который лично выверил Борис Пастернак, попал к его знакомой, графине Жаклин де Пруайяр.
Однако к 1958 году вокруг романа поднялся такой политический шум, что даже издательство "Мутон" в Гааге, первоначально согласившийся напечатать книгу, отказалось от этих планов. Чувствуя поднимающийся вокруг книги политический скандал, "Доктор Живаго" по-русски решили выпускать американцы.
Крупный функционер ЦРУ в Европе композитор Николай Набоков, руководитель Конгресса за Свободу Культуры, обратился к Жаклин де Пруайяр с просьбой предоставить правильный текст романа. Но, поняв, какая организация собирается оплатить издание, госпожа де Пруайяр категорически отказалась выпускать из рук свой, легко опознаваемый экземпляр: она опасалась, что ее имя навсегда будет ассоциироваться с ЦРУ.
Найти копию романа оказалось делом непростым. Вокруг этой операции ЦРУ сложилась легенда (пока не подтвержденная документально), что американские агенты в кооперации со своими британскими коллегами попросту похитили на два часа чемодан с рукописью "Доктора Живаго" у одного из авиапассажиров внутриевропейского рейса и сделали фотокопию текста.
Потом роман печатали частями в разных типографиях для того, чтобы сбить со следа советских шпионов. Все закончилось тем, что в итоге книга вышла на русском языке в США, и Пастернак получил за нее Нобелевскую премию. Но эта версия романа, по словам Толстого, является неверной. В книге, говорит литератор, пропущены целые строчки и масса смысловых несоответствий.
Как отмечает исследователь, сам Борис Пастернак никакого отношения к операции ЦРУ не имел.
Этот факт подтверждает и сын поэта, комментатор многих его изданий Евгений Пастернак. В интервью радио "Эхо Москвы" он отметил, что его отец ничего о действиях ЦРУ не знал и не мог знать. Он очень хотел, чтобы роман был опубликован по-русски как можно скорее, но совсем не ради Нобелевской премии.
По его словам, "то, что премия может быть вручена только с учетом русского издания "Доктора Живаго" - это сомнительный факт". "Еще до того, как роман вышел по-русски, к нему (Б.Пастернаку) приезжал представитель Нобелевского комитета, они об этом говорили", - отметил сын писателя.
События, связанные с первой публикацией романа Бориса Пастернака на русском языке в конечном итоге привели к гибели писателя, поэтому факт участия спецслужб США в этом деле вызывают негативную реакцию, заявил Евгений Пастернак. По его словам, результатом присуждения премии был "чудовищный политический скандал, отказ от премии", что "ускорило смерть" его отца.
Исследование Ивана Толстого, продолжавшееся почти два десятка лет, претендует на статус международной литературной сенсации, открывающей еще одну страницу в истории "холодной войны". Литературовед подчеркивает, что в то время как советская разведка вела борьбу с идеологически противником ядами и убийствами, ЦРУ использовало в качестве оружия запрещенную литературу.
Нобелевская премия Борису Пастернаку: тайны и реальность
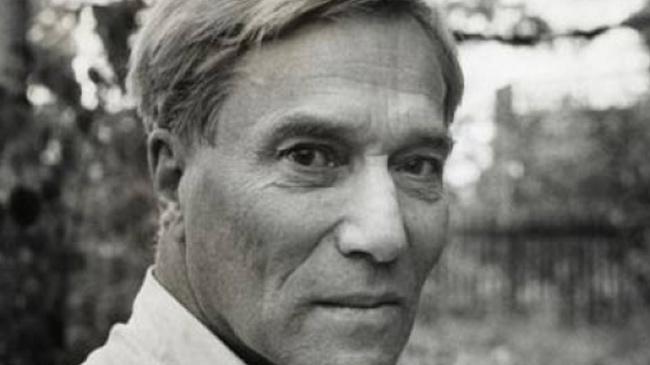
Пастернак
Текст: Павел Басинский
Фото предоставлено Государственным Литературным музеем
Выход романа советского писателя за границей - сначала по-итальянски, а потом по-русски в Голландии - вызвало чудовищную травлю. "Народные массы" упражнялись в письмах на тему "не читал, но осуждаю!". А люди более искушенные уверяли, что Нобелевская премия - политически мотивирована и вообще чуть ли не спланированная акция ЦРУ. Что, в контексте холодный войны, было не так уж неправдоподобно, как может показаться сейчас. Имели ли какую-то почву под собой эти намеки? Предлагаем два взгляда двух авторов книг о Пастернаке - Ивана Толстого ("Отмытый роман Пастернака") и Анны Сергеевой-Клятис ("Пастернак в жизни").
Насколько получение Борисом Пастернаком Нобелевской премии было действительно заслуженным и в какой степени роль в этом сыграли спецслужбы США и Западной Европы?
Иван Толстой: Извините, но я считаю этот вопрос не корректно поставленным. Пастернак получил Нобелевскую премию законно. Это было в 1958 году, и он был самый лучший, самый правильный кандидат на эту премию из всех литераторов, которые тогда писали в мире. Может быть, это мое субъективное мнение русского читателя, но с моей, русской точки зрения, он был наиболее достойным. Здесь надо учесть еще и то, что Нобелевский комитет вручает премию не только за литературу, за слова, напечатанные на бумаге, но и за судьбу писателя, за его "идеализм", как сказано, между прочим, в уставе премии. А в плане соединения художественного гения и драматизма судьбы у Бориса Леонидовича в то время конкурентов не было.
Второй вопрос касается деятельности американской разведки. Это совершенно другая история, в которой Пастернак является жертвой действия "больших сил", которыми он сам управлять не мог. Здесь им самим играет судьба. Да, ЦРУ сделало все для того, чтобы в то время, как тогда выражались, "поднять" Пастернака. Причем "поднимали" его не только американцы, но и англичане. "Поднимали" его и во Франции, и в Италии, и в Германии. В апреле 2014 года на сайте газеты "Вашингтон пост" появились документы, которые доказывают, что "поднятие" Пастернака было централизованным действием. Это не значит, что в СМИ того времени люди свободной части мира не могли делать это по собственному желанию, усмотрению и вкусу. Но при этом была и целенаправленная, организованная и согласованная кампания по продвижению Пастернака к читателям, укреплению его фигуры в общественном мнении. И, конечно, эта кампания сыграла большую роль в получении им премии. Но понять, в связи ли с этим он получил премию или независимо от этого, нельзя. Психология принятия окончательного решения со стороны нобелевских "старцев" — это тайна за семью печатями. Кто может претендовать на то, чтобы читать в их душах и сердцах?
Да, я считаю, что общественный, интеллектуальный, культурный и моральный фон для присуждения этой премии Пастернаку был создан благодаря действиям американцев и европейских СМИ. Нобелевский комитет позиционирует себя как независимая организация. Но ведь он не на необитаемом острове существует. Он живет в том же мире, где живут все. И понятно, что через сознание 18 шведских академиков проходят лучи, которые отражаются от общественного мнения. Но с их стороны это было законное, взвешенное и правильное решение. А главное: позиции Нобелевского комитета, американской разведки и совершенно искренних читательских ожиданий в этом случае сошлись в одной точке. Эта точка называется "Нобелевская премия Борису Пастернаку".
И в вашей книге, и в вашем сегодняшнем ответе звучит определение: "правильный писатель". Но ведь оно не совсем лестно для художника!
Иван Толстой: Вот это справедливый вопрос! Под этим я понимаю вот что. Кажется, Ницше сказал: гений - это тот, кто осуществляет себя. Вундеркинд не гений, пока не стал им в качестве взрослого человека. Пастернак свою мечту вымечтал, выстрадал! Он хотел написать прозу, которая произвела бы впечатление в мире и вобрала бы в себя все то, что он, как художник, хочет сказать миру. И он сделал это. Он мечтал об этом сорок лет! С 1916 года он пытался написать прозу, но не мог найти для нее адекватной, как он это понимал, формы. Он начинал и бросал, писал рассказы, снова уходил в стихи. Высказывал мысли в письмах, статьях, предисловиях. Почему переводы Пастернака с "академической" точки зрения не совсем адекватны? Потому что Пастернак был одержим собственными идеями. И они у него были. Мужество художника, его гениальность проявились именно в том, что он не отступился ни перед чем. Он не склонил голову при Сталине, сохранил себя в испытаниях войны, во времена послевоенных гонений на "космополитов" и на себя персонально. Он не испугался ничего, даже когда его начали травить после того, как он свой роман отослал Фельтринелли. Он тайком сообщал издателям, что самое главное - это выпустить книгу. Сперва просто выпустить, пусть на итальянском, а потом непременно и на русском.
Пастернак - это человек, который возжаждал своей судьбы, как она описана где-то на небесах. Он добился осуществления своих желаний. А то, что он результате травли заболел смертельной болезнью и умер, то когда говорят, что это было ужасно и Нобелевская премия не стала ему благом, то мне хочется возразить. Все это задумал Пастернак! Он прожил свою жизнь, мечтая об этом! Разве мы упрекаем тех, кто пошел на костер ради идеи? Для Пастернака это было восшествие на костер. И можно только снять шляпу перед таким мужеством и такой судьбой. Вот почему я говорю, что в пятидесятые годы ХХ века не было более правильного человека.
Анна Сергеева-Клятис: 23 октября 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение благородных традиций великой русской прозы". Подразумевался весь колоссальный объем его творческого наследия - не только "Доктор Живаго". Хотя роман включался в число его достижений на равных правах с поэзией.
Имя Пастернака возникало среди претендентов на Нобелевскую премию по литературе, начиная с 1946 года, регулярно. Его номинировали как крупнейшего поэта современности европейские профессора, не располагавшие сведениями о том, что он уже работает над своим романом.
Имел ли значение для Нобелевского комитета тот факт, что с 1957 года, когда "Доктор Живаго" был издан в Милане на итальянском, а потом в Голландии на русском, Пастернак стал и крупнейшим прозаиком? Несомненно, да. Это была последняя капля, которая окончательно склонила весы в его сторону. Можно ли воспринимать решение Нобелевского комитета как запланированную и мастерски проведенную спецслужбами США издательскую акцию антисоветской направленности? Несомненно, нет. Борьба спецслужб как важнейшая часть холодной войны проходила и на литературном поле, но не имела прямого отношения ни к мировой славе Пастернака, ни к его судьбе, которую он выбрал сознательно и добровольно. Роман "Доктор Живаго" потряс читателей во всем мире - конечно, не своей антисоветскостью, которой не было в нем, а высочайшим художественным уровнем, глубиной и искренностью анализа, исключительностью позиции автора, "лицом повернутого к Богу". Казалось чудом, что в самой несвободной стране, которая справедливо представлялась западному читателю хорошо контролируемым пространством за колючей проволокой, возникло произведение, свидетельствующее о свободе человеческого духа, способного противостоять разрушающему личность гнету системы. Это событие действительно было чудом, "врасплох" заставшим советских функционеров, которые тщетно старались не допустить его осуществления. Присуждение Нобелевской премии только фиксировало их несомненный проигрыш.
Ощущение чуда не покидало и самого Пастернака, по жизни которого уже прокатилась тяжелым катком советская идеологическая машина. После вызова к генеральному прокурору, где ему фактически было предъявлено обвинение в государственной измене, Пастернак написал своему итальянскому корреспонденту: "Хотя опасность, которою мне пригрозили в самое последнее время, непреувеличенно смертельна, вещи бессмертного порядка, достигнутые наряду с ней, ее перерастают".
Нобелевская премия была заслуженной Пастернаком, но не достаточной наградой, соразмерной наградой стало его бессмертие.
"Я убийца и злодей?" Как Пастернак писал покаянные письма

31 октября 1958 года Борис Пастернак написал письмо Никите Хрущёву, где объяснил, что жизнь вне родины для него немыслима. За неделю до этого он стал нобелевским лауреатом. Но травля со стороны советской власти заставила писателя, благодаря переводам которого на русском языке с нами заговорили шекспировские Ромео и Джульетта и Фауст Гёте, отказаться от премии.
В течение десяти лет — с 1945 по 1955 год — Пастернак трудился над романом "Доктор Живаго", который стал вершиной его творчества, и одновременно из-за которого писатель подвергся нападкам со стороны правительства. Произведение было запрещено к печати из-за критического отношения Пастернака к Октябрьской революции. Негативное отношение к роману сложилось и в официальной литературной среде. Главный редактор журнала "Новый мир" Константин Симонов при отказе в публикации "Доктора Живаго" заявил: "Нельзя давать трибуну Пастернаку!"
Но о новом романе Пастернака стало известно на Западе, им заинтересовался молодой итальянский издатель Фельтринелли. К осени 1957 года писатель понял, что он не дождётся издания романа в России, и тайно предоставил издателю право напечатать итальянский перевод. Уже 23 ноября на книжных полках Италии появился роман "Доктор Живаго", следом книгу опубликовали во Франции.
Советская власть не знала, что делать: роман уже вышел на 23 языках, среди которых был даже язык индийской народности. Поэтому было решено никаких действий по отношению к Пастернаку пока не предпринимать.
23 октября 1958 года Борис Пастернак стал вторым русским писателем после Бунина, которому была присуждена Нобелевская премия по литературе "За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и развитие традиций классической русской прозы". Секретарь Нобелевского фонда Андерс Эстерлинг отправил Пастернаку телеграмму с поздравлением и пригласил на вручение премии 10 декабря в Стокгольме. Пастернак ответил кратко: "Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлён, смущён".
"Вечером того дня, когда в Москве стало известно, что отцу присудили Нобелевскую премию, мы радовались, что все неприятности позади, что получение премии означает поездку в Стокгольм и выступление с речью. Как это было бы красиво и содержательно сказано! Победа казалась нам такой полной и прекрасной. Но вышедшими на следующее же утро газетами наши мечты были посрамлены и растоптаны", — сын писателя Евгений Пастернак.
В это же время ЦК КПСС приняло постановление "О клеветническом романе Б. Пастернака".
1. Признать, что присуждение Нобелевской премии роману Пастернака, в котором клеветнически изображается Октябрьская социалистическая революция, советский народ, совершивший эту революцию, и строительство социализма в СССР, является враждебным по отношению к нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны.
2. Подготовить и опубликовать в "Правде" фельетон, в котором дать резкую оценку самого романа Пастернака, а также раскрыть смысл той враждебной кампании, которую ведёт буржуазная печать в связи с присуждением Пастернаку Нобелевской премии.
3. Организовать и опубликовать выступление виднейших советских писателей, в котором оценить присуждение премии Пастернаку как стремление разжечь холодную войну.
Пастернак этого ещё не знал, 24 октября он отмечал с друзьями семьи именины своей жены Зинаиды Николаевны и известие о присуждении Нобелевской премии. По настоянию заведующего отдела культуры ЦК КПСС Дмитрия Поликарпова в Переделкино приехал друг Пастернака, писатель Константин Федин. Ему было поручено уговорить лауреата отказаться от премии. Во время разговора на повышенных тонах Федин заявил, что если Пастернак не откажется от премии, то последствия непредсказуемы. Но писатель твёрдо стоял на своём: от Нобелевской премии он отказываться не будет.
После этого разговора Пастернак потерял сознание и все последующие дни не читал газет. Это было правильное решение.
Давид Заславский, который давно недолюбливал Пастернака, написал статью "Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка", опубликованную в "Правде" 26 октября: "Захлебываясь от восторга, антисоветская печать провозгласила роман "лучшим" произведением текущего года, а услужливые холопы крупной буржуазии увенчали Пастернака Нобелевской премией".
В то же время студенты-добровольцы из Литинститута вышли на демонстрацию с плакатом "Иуда, вон из СССР": карикатурно нарисовали Пастернака, рядом изобразили мешок с долларами, к которым писатель тянулся.
28 октября в отделе культуры ЦК КПСС обсуждался вопрос "О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя". Автор "Доктора Живаго" из-за плохого самочувствия не смог приехать на заседание. Присутствовавшие писатели единодушно приняли решение исключить Пастернака из членов Союза советских писателей. Не изменила их вердикта и телеграмма от британских писателей, вступившихся за лауреата: "Мы глубоко встревожены судьбой одного из величайших поэтов и писателей мира Бориса Пастернака… Во имя той великой русской литературной традиции, которая стоит за вами, мы призываем вас не обесчестить эту традицию, подвергая гонениям писателя, почитаемого всем цивилизованным миром".
Исключения Пастернака из Союза писателей советской власти было мало — генерал-полковник Владимир Семичастный предложил писателю на одном из докладов ЦК ВКЛСМ эмигрировать: "Свинья… никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньёй, то свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живёт и дышит. А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своём произведении высказался".
Пастернак понимал, что у него нет другого выхода, как только отказаться от премии. Он написал в Шведскую академию: "В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ".
Также по советам адвокатов из Всесоюзного агентства по охране авторских прав 31 октября Пастернак написал письмо Хрущёву.
"Уважаемый Никита Сергеевич,
Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому правительству.
Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство "не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР".
Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.
Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне её. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.
Осознав это, я поставил в известность Шведскую академию о своём добровольном отказе от Нобелевской премии.
Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры.
Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу ещё быть ей полезен.
Вскоре Пастернака вызвали в Кремль, он обрадовался — надеялся на личную встречу с Хрущёвым. Но его ждал Поликарпов, который сообщил, что писатель может остаться на родине.
Ещё через пару дней ТАСС был уполномочен заявить, что "со стороны государственных органов не будет никаких препятствий, если Б.Л. Пастернак выразит желание выехать за границу для получения присуждённой ему премии. В случае если Б.Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своём антисоветском сочинении "Доктор Живаго", то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий".

Фото: © Википедия, Shutterstock
Травля из-за премии пошла на спад после публикации в "Правде" письма Пастернака. "В моём положении нет никакой безысходности. Будем жить дальше, деятельно веруя в силу красоты, добра и правды. Советское правительство предложило мне свободный выезд за границу, но я им не воспользовался, потому что занятия мои слишком связаны с родною землёю и не терпят пересадки на другую".
Это была временная передышка. Гонение Пастернака вновь началось в марте 1959 года, после публикации на Западе его стихотворения "Нобелевская премия".
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Тёмный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, всё равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придёт пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
В один из дней, когда Пастернак гулял один по Переделкино, подъехала машина, в которую его затолкали силой и привезли в прокуратуру. Его допрашивал лично генпрокурор Руденко. Писателя обвиняли по 64-й статье — "Измена Родине". На протяжении двух часов Пастернака запугивали возбуждением уголовного дела: если ещё раз его произведение будет опубликовано на Западе, то он будет арестован.
Отказ от Нобелевской премии, нападки правительства, критика со стороны других писателей — все эти волнения сильно подорвали здоровье 69-летнего Пастернака. В апреле 1960 года он впервые почувствовал, что болен: из-за боли в левой лопатке он не мог писать сидя. 30 мая он умер от рака лёгких.
Роман Пастернака "Доктор Живаго" лёг в основу голливудской экранизации, удостоенной "Оскара". Но впервые на русском языке произведение было напечатано только в 1989 году, через 29 лет после смерти автора. Тогда же медаль Нобелевского лауреата была вручена членам семьи Пастернака.
Читайте также:

