Почему в государстве есть богатые и бедные почему доходы граждан не равны
Обновлено: 25.06.2024

Гуляя по пляжу Рио-де-Жанейро мимо Ипанемы и Леблона, вы увидите красивейшие виллы Бразилии. В роскошных дворцах, стоящих десятки миллионов долларов, есть все, что могут позволить себе богачи, — оборудованные новейшей техникой кинотеатры, теннисные корты, бассейны, джакузи, комнаты для прислуги. А рядом — один из самых больших и криминализованных трущобных городов мира. Как ужас- ная бедность может сосуществовать с таким богатством?
Неравенство старо как мир. Особенно острым оно было в викториан- ской Англии: богатые промышленники сколачивали немыслимые состояния, а семья среднего рабочего влачила жалкое существование, вкалывая на заводах и в шахтах и ютясь в бараках, напоминавших бразильские трущобы.
Несмотря на усилия политиков, пытающихся сократить разрыв между богатыми и бедными, стена между ними остается неприступно высокой. За четверть века после начала 1980-х неравенство, наоборот, усугубилось почти в каждой развитой стране мира. И хотя во Франции, Греции и Испании разрыв сократился, в Великобритании бедные стали еще беднее, а к концу 2000-х Великобритания и США достигли высочайшего уровня неравенства после 1930-х.
Разрыв в уровне благосостояния. Капитализм — это система, вознаграждающая тяжелую работу и предприимчивость; неудиви- тельно, что одни люди становятся богаче других. В конце концов, что толку много и тяжело трудиться, если за это не будет никакой награды? Однако масштаб неравенства заставляет тревожиться.
В США доходы самой богатой и самой бедной десятой части населения различаются в 16 раз, а в Мексике, где трущобы столь же убоги, как в Рио, богатые богаче бедных в 25 раз.
Между тем в скандинавских странах вроде Дании, Швеции и Финляндии разрыв куда меньше: самые богатые получают доходы в пять раз больше, чем самые бедные. Разрыв в уровне благосостояния измеряется так называемым коэффициентом Джини, связывающим доходы наиболее состоятельных людей с доходами тех, кто в данной стране беднее всего.
Масштаб неравенства окажется еще больше, если сравнить достаток в различных странах. По многим показателям беднейшие 20% мирового населения — в основном это жители Черной Африки — живут в экономическом эквиваленте Средневековья, так что даже британские и американские бедняки в сравнении с ними несравнимо богаче и здоровее.
Неравенство объясняется простыми факторами. Скандинавские страны, как и многие страны Северной Европы, облагают граждан большими налогами, чтобы через программы социального обеспечения и налоговые льготы пере-
распределить средства в пользу бедняков. При современной демократии одна из главных целей налоговой системы — уменьшить несправедливость и помочь нуждающимся.
Однако поднять налоги на богатых, чтобы отдавать больше денег бедным, недостаточно. В Великобритании избранное в 1997 году правительство лейбористов стало перераспределять больше средств, в итоге за десять лет пребывания лейбористов у власти доход среднего родителя-одиночки увеличился на 11%. Однако уровень неравенства стал самым высоким за несколько десятилетий. Хуже того, исследование Организации экономиче- ского сотрудничества и развития (ОЭСР) показало, что доходы сыновей чаще всего почти не отличаются от доходов отцов, иначе говоря, возмож- ности молодежи вырваться из бедности сократились.
Увеличивая разрыв.
Мы живем в эпоху тотального изменения эконо- мической структуры мира. Бизнес извлекает выгоду из новых техноло- гий — интернета, передовой вычисли- тельной техники, телекоммуникаций. В эпоху перемен неравенство часто увеличивается: те, кто готов к переме- нам, богатеют, а те, кто не готов, — ска- жем, рабочие детройтского автомобильного завода — остаются за бортом. Похожие процессы шли во время промышленной революции.
Разрыв увеличивается и по другой причине: появилась крохотная группа сверхбогатых людей. В Великобритании, где три миллиона человек, составляющих 10% самых высокооплачиваемых работников, зарабатывают в среднем £105 000 в год (до налогов), 0,1% сверхбогачей, или 30 тысяч человек, имеют доход в среднем £1,1 млн в год. Сверхбогачи часто избегают уплаты значительной суммы налогов, выводя активы в офшоры, а значит,
Последствия неравенства
В целом высокий уровень неравенства не мешает стране становиться богаче. Известный экономист Роберт Барро показал, что если в развивающихся странах неравенство, судя по всему, влияет на экономический рост негативно, то в развитых его, наоборот, подстегивает.
Но растущий разрыв в уровне благосостояния может навредить стране другими способами. Самое скверное — это социальные волнения. Исследования говорят, что в странах и регионах, где неравенство доходов незначительно, люди больше доверяют друг другу, и это логично: у них меньше причин завидовать соседу. В таких условиях уменьшается и число преступлений со смертельным исходом. Так, в США отмечается сильная корреляция между штатами с бол2 ьшим неравенством и штатами, где совершается больше убийств.
Низкий доход, как правило, связан с проблемами со здоровьем. В шотланд- ском Глазго, где разрыв между богатыми и бедными особенно велик, ожидаемая продолжительность жизни мужчины меньше, чем во многих развивающихся странах, включая Алжир, Египет, Турцию и Вьетнам.
Проблемы неравенства наблюдаются не только в экономике. По большому счету, самооценка человека, отражающаяся на его производительности труда, зависит от того, каким человек видит себя в сравнении с другими. Когда люди знают, что их заработок значительно меньше, чем у других, они обычно менее довольны жизнью и трудятся не столь усердно.

Столетие Великой Октябрьской социалистической революции мир встречает в состоянии острейшего неравенства. И Россия в этой гонке — впереди планеты всей. В нашей стране разрыв между богатыми и бедными один из самых высоких в мире. Кто виноват и что делать?
Восемь человек на земле имеют столько же денег, столько 3,6 млрд из беднейшей половины человечества. Больше половины всего имущества человечества принадлежит всего лишь одному проценту людей. Вся мировая экономика в целом и экономика каждого отдельного государства сегодня заточены на то, чтобы богатые с каждым годом становились богаче, а бедные — беднее. И Россия в этой гонке — впереди планеты всей. В нашей стране разрыв между богатыми и бедными один из самых высоких в мире. Цена такой политики — медленный экономический рост и растущее социальное напряжение.
Бедные беднеют, богатые богатеют
В последние годы скорость, с которой увеличивается богатство богатых, просто пугает. В 2010 году 388 человек имели столько же денег, что и беднейшая половина человечества. Сегодня на самом верху пирамиды — всего лишь восемь человек. Таковы результаты свежего исследования международной организации по борьбе с бедностью Oxfam.
Причем надо понимать, что эти беднейшие 3,6 млрд человек — далеко не одна лишь голодающая Африка. К бедным сегодня относятся и люди с университетским дипломом, но не погашенным кредитом за обучение. А также специалисты, погрязшие в долгах из-за болезни и дорогого лечения.
Вспомните, насколько выросли зарплаты в вашей профессии за последние годы? А если принять во внимание инфляцию? В период с 1988 по 2011 год доходы 10% самых бедных людей на земле росли меньше чем на 3 доллара в год. Доходы самого богатого 1% за это время выросли в 182 раза. Разрыв между богатыми и всеми остальными увеличивается почти во всех странах.
За последние 30 лет доход бедной половины американцев вообще не изменился. В то время как благосостояние 1% самых богатых жителей США выросло на 300%. Во Вьетнаме самый богатый человек страны зарабатывает за день столько, сколько бедный за десять лет, приводят данные эксперты Oxfam. Как мы оказались в такой ситуации?
Деньги к деньгам
Минувший год был крайне удачным для крупного бизнеса: топ-10 корпораций мира получили по итогам 2015/16 делового года доход, превышающий доход 180 государств. Основная часть прибыли ушла к владельцам — через выплаты (дивиденды и т. п.), которые растут темпами, превышающими рост ВВП, а также за счет уклонения от уплаты налогов. Например, в Великобритании в 1970 году акционеры могли рассчитывать на 10% дохода компании. Сегодня — на 70%. Причем выигрывают от растущих дивидендов прежде всего акционеры компаний из числа частных лиц. Институциональные инвесторы чаще всего миноритарные акционеры. Например, в Великобритании пенсионные фонды 30 лет назад владели 30% акций. Сегодня — только 3%.
Опережающими темпами растут и доходы СЕО компаний по сравнению с рядовыми сотрудниками. По данным компании Oxfam за 2014 год, соотношение зарплаты СЕО и средней зарплаты в компании составляло в Великобритании примерно 183 к 1.
Соответственно, другой глобальный тренд — снижение доли работника в доходе компании. Условно говоря, доход можно разделить на две части: трудовой доход (зарплаты, премии сотрудников) и доход капитала (дивиденды и пр.). Пока доход капитала растет, трудовой доход снижается почти по всему миру: с 1995 по 2007 год так было практически во всех странах ОЭСР (клуб наиболее развитых экономически стран), а также в двух третях стран с низкими и средними доходами — исключением стала только Латинская Америка. По данным Penn World Table, доля труда в прибыли компании в целом по 127 странам мира снизилась с 55% в 1990 году до 51% в 2007-м.
Что спрятал, то твое
Второй источник богатства — неуплаченные налоги. Чем больше у тебя денег, тем больше возможностей не платить налоги — на это сегодня работает целая индустрия. И работает весьма успешно. Известна фраза Уоррена Баффета, что он платит налоги меньше всех в своей компании — меньше даже, чем его секретарша и уборщица.
В офшорах по всему миру притаились 7,6 трлн долларов — это больше, чем совокупный ВВП Германии и Великобритании. Если бы с этих денег были выплачены законные налоги, одна лишь Африка получила бы дополнительные 14 млрд долларов. Этих денег хватило бы, чтобы спасти жизнь 4 млн детей или полностью покрыть дефицит школьных учителей на континенте.
Бизнес и государство: рука руку моет
Нерыночные условия работы некоторых банков, фармацевтических и телекоммуникационных компаний — также очень знакомая история для российского бизнеса. Вообще, тема социального неравенства — прежде всего про Россию, а не про коррумпированную Африку или купающийся в деньгах Ближний Восток.
Россия без среднего класса
На протяжении нескольких последних лет Россия является страной с самым большим в мире разрывом между богатыми и бедными. Таковы результаты ежегодного исследования благосостояния Wealth Report, которое готовит банк Credit Siusse. 10% самых богатых россиян владеют 87% благосостояния России. С такими цифрами мы сильно опережаем другие страны. Например, в США этот показатель — 76%, а в Китае — 65%. 92 тыс. долларовых миллионеров в России и примерно 90 долларовых миллиардеров входят в глобальный 1% самых богатых людей.
Зато у нас один из самых низких в мире показателей среднего класса — 4,1%. Из стран, в которых проводилось исследование, меньше только у Аргентины, Таиланда и Индии.
В прошлом году эксперты РАНХиГС опубликовали доклад, в котором описали происходящие перемены в структуре среднего класса в России. Все меньшую долю в российском и без того небольшом среднем классе занимают представители сфер образования, здравоохранения, науки, а также различных высокотехнологических отраслей промышленности. Им на смену приходят представители государственных структур, силовых ведомств и работников финансового сектора.
15 февраля глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что число безработных с высшим образованием выросло в России за минувший год на 19,6%.
Одно из главных последствий растущего неравенства — торможение экономического роста. Объяснение простое. Сверхполяризованное общество делает внутренний рынок неразвитым. Потребление верхних слоев больше ориентировано на экспорт. Размывание среднего класса и снижение потребления становится главным барьером для инвестиций в экономику. В России это наблюдается особенно четко.
Технический прогресс неравенства
Один из факторов, которые будут увеличивать неравенство, — это именно технический (или технологический) прогресс. Он обещает оставить без работы как качественных специалистов среднего возраста в Германии, так и молодых людей с Африканского континента: список лишних профессий и компетенций увеличивается с каждым годом.
Но главные факторы остаются прежними: модель современной экономики и принципы ведения бизнеса. Именно поэтому в компании Oxfam предлагают следующие решения. Государство должно работать в интересах 99% населения, прислушиваться к их нуждам, а не к нуждам 1%, пусть и обладающего большими лоббистскими связями. Государства должны начать сотрудничать друг с другом и объявить всестороннюю войну как налоговым гаваням по всему миру, так и бесконечной гонке за снижение налогов. Государства должны заставить богатых людей платить справедливые налоги, чтобы сгладить неравенство в стране. Государства должны поддерживать любой бизнес, а не только монополии. Женщины и мужчины должны иметь равную оплату труда.
А это значит, что социальная напряженность продолжит расти.
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

В России растет разрыв между бедными и богатыми. С 1980 года объем национального дохода, приходящегося на 10% самых обеспеченных граждан, вырос более чем вдвое. В итоге Россия вошла в число государств с самым высоким экономическим неравенством.
Мировая лаборатория неравенства (World Inequality Lab) провела глобальное исследование, посвященное разрыву между богатыми и бедными. Согласно докладу World Inequality Report, неравенство в доходах растет практически во всем мире, а одним из лидеров по этому показателю в последние годы стала Россия.
В 2016 году на 10% самых обеспеченных россиян приходилось 46% национального дохода.
Для сравнения, в Китае десятая часть населения получает 41% национального дохода, в Европе этот показатель составляет 37%, в США и Канаде – 47%, в Бразилии, Индии и странах Африки – 55%.
По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 19,8 млн россиян, что составляет порядка 13,5% населения. Это показатель стал максимальным с 2006 года, когда на доходы ниже прожиточного минимума приходилось жить 15,2% россиян (21,6 млн человек).
Еще в марте вице-премьер Ольга Голодец отмечала, что
в России есть уникальное явление — работающие бедные.
В июне глава Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщила, что число людей, живущих за чертой бедности в России, составило уже 22 млн человек.
По данным международного исследования, рост неравенства был особенно резким в России с середины 1990-х гг. Так, например, доля национального дохода, приходящаяся на 10% самых обеспеченных граждан, в России еще в 1980 году была немногим более 20%, а с 1995 по 2010 годы наша страна превзошла даже Соединенные Штаты и Индию, на пике роста в 2008 году этот показатель в РФ превысил 52%, затем начал снижаться.
В ближайшее время ситуация будет выправляться, обещают российские власти.
Сами россияне все еще не чувствуют на себе экономического роста. По данным Росстата, в прошлом месяце реальные доходы россиян упали на 1,3%.
Падение реальных доходов наблюдается уже четвертый год подряд. Если по итогам 2014 года в реальном выражении доходы упали на 0,7%, то в 2015 году — уже на 3,2%, в прошлом году снижение составило 5,9%.
Летом эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян обвалились на 19,2%.
— сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в конце ноября.
По данным Росстата за 2016 год,
на 20% населения с самым высоким уровнем дохода приходится 47,1% общего объема денежных фондов в стране.
На 20% жителей страны с наименьшими доходами – 5,3%.
Согласно октябрьскому исследованию Фонда общественного мнения (ФОМ),
63% россиян считают, что большой разрыв в доходах мешает развитию страны.
В том, что разница между богатыми и бедными в России очень большая, уверены более 90% россиян, 74% россиян считают, что этот разрыв с годами растет.
По данным Международной организации труда, по уровню зарплат Россия занимает 51 место среди 71 стран, находясь между Китаем и Бразилией. По оценке международной организации, средняя зарплата в России в 2016 году составляла $570.
По степени расслоения общества на богатых и бедных (Индекс Джини) Россия находится примерно на одном уровне с Кот-д'Ивуаром, Мадагаскаром, Аргентиной и США.
Экономическое неравенство, отмечается в международном исследовании, во многом обусловлено неравным владением капиталом, как частным, так и государственным. С 1980 года передача государственных средств частному капиталу происходила почти во всех странах, что также ограничивает способность правительств решать проблемы неравенства, полагают эксперты.
В январе Всемирный экономический форум отмечал, что поляризация секторов в обществах и растущее неравенство в доходах станет одной из основных тенденций, которые будут влиять на мир в течение следующего десятилетия.
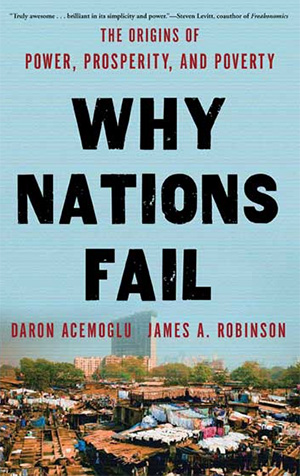
Герой Пушкина читал Адама Смита и потому умел судить о том, как государство богатеет. Александр Сергеевич, правда, здесь допустил неточность, поскольку великий шотландец разбирал причины богатства не государств, а народов, наций. И до него, и после это делали многие ученые мужи, так что нынешний арсенал теорий национального благосостояния или отсутствия такового весьма обширен. Недавно в эту копилку политэкономических идей внесли нетривиальный вклад профессор экономики Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу (Daron Acemoğlu) и гарвардский политолог профессор Джеймс Робинсон (James A. Robinson). Их совместная монография Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (Crown Business, New York, 2012) уже успела получить множество хвалебных отзывов от коллег по профессии с мировыми именами, включая и впечатляющую когорту нобелевских лауреатов.
В начале книги авторы расправляются с несколькими ходовыми теориями, рассматривающими причины неравномерного распределения богатств в глобальном масштабе. Одна из них (принадлежащая американскому эволюционному биологу и физиологу Джареду Даймонду) объясняет такое положение дел географическими факторами, которые могут либо благоприятствовать экономическому развитию (умеренный климат, здоровая среда обитания, обилие плодородных земель и/или минеральных и энергетических ресурсов), либо его тормозить (скудость почв и недр, частые погодные экстремумы, наличие опасных патогенов, сравнительно узкий спектр местных растений и животных, пригодных для одомашнивания и использования в сельском хозяйстве и на транспорте). Другая распространенная гипотеза связывает эту неравномерность с национальными либо ареальными культурными традициями (пример — протестантская этика как двигатель раннего капитализма в классической интерпретации Макса Вебера). Сторонники еще одной модели утверждают, что бедные страны бедны в силу некомпетентности своих лидеров (или, более широко, национальных элит), которые могут быть исполнены благих намерений, но просто не знают, как повысить эффективность народного хозяйства (отсюда следует, что для выхода на траектории устойчивого развития они прежде всего нуждаются в хороших советниках и достаточно щедрой финансовой и технологической помощи от богатых стран-доноров и международных организаций). Аджемоглу и Робинсон с легкостью приводят контрпримеры, из которых следует, что ни одна из этих теорий не проясняет глубинных причин экономической стагнации или регресса.
За этим критическим разбором следует основной тезис. Бедные страны бедны в основном потому, что власть имущие там следуют политическим курсам, которые блокируют саму возможность долговременного экономического прогресса. Они выбирают плохие пути не по ошибке или неведению, а вполне сознательно, поскольку считают, что тем самым реализуют собственные жизненно важные интересы. Отсюда следует, что адекватное объяснение бедности и богатства народов нельзя выявить в рамках одного лишь экономического дискурса, даже дополненного историческими, географическими и социокультурными моментами. Его надо искать на стыке экономики и политики — конечно, с включением всех релевантных сопутствующих факторов. Именно такой подход и обещают авторы книги.

Авторы книги Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty Дарон Аджемоглу (слева) и Джеймс Робинсон считают, что адекватное объяснение бедности и богатства народов надо искать на стыке экономики и политики
Инклюзивные экономические институты способствуют процветанию, но для своей стабильности нуждаются в инклюзивных формах политического устройства, которые, в свою очередь, опираются на инклюзивную экономику. Экстрактивные экономические структуры могут на какое-то время обеспечивать быстрый рост национального производства (хотя, как правило, не всеобщий, а локализованный в каких-то секторах экономики), однако оказываются неработоспособными или, в лучшем случае, малоэффективными в длительной перспективе. Они поддерживаются экстрактивными политическими институтами, которые нуждаются в экстрактивной экономике и опять-таки подкрепляют ее своей властью и авторитетом. Этот синергизм между однотипными институтами в сферах экономики и политики авторы детально прослеживают на многочисленных исторических ситуациях, описание которых по объему занимает большую часть книги.
В том же духе авторы формулируют соответствующие определения для политической сферы. Инклюзивные политические институты препятствуют монополизации политической власти и в идеале (хотя на практике всегда с ограничениями) распределяют ее рычаги в духе широты и плюрализма. При этом они обеспечивают эффективную, но не чрезмерную централизацию этой власти, которая позволяет охранять общественный порядок, законность и права собственности, но в то же время обеспечивает свободу экономики, не зажимая ее в узкие тиски жесткого государственного контроля. Напротив, политические институты экстрактивного типа концентрируют власть в руках немногих и не создают механизмов для ненасильственной смены властных элит.
Аджемоглу и Робинсон не раз подчеркивают, что действующие в связке экстрактивные институты при достаточной централизации вполне способны на какое-то время обеспечивать быстрый экономический рост (хрестоматийные примеры — Россия в эпоху петровских реформ и СССР в 1930-60-е годы). Однако они не могут сделать этот рост самоподдерживающимся, и потому устойчивым,по двум основным причинам. Во-первых, он невозможен без постоянных технологических новшеств, которые требуют созидательного разрушения устаревших способов производства. Такое разрушение неизбежно затрагивает интересы власть имущих и подрывает их прерогативы. Поэтому элиты стран с доминирующими экстрактивными институтами опасаются процессов созидательного разрушения и если их и допускают, то только частично и на время. Во-вторых, такие общества беременны политической нестабильностью, которая создает угрозы для экономического прогресса. Уйти от этой опасности невозможно в силу самой природы экстрактивной власти. Она обеспечивает своим носителям уникальные привилегии и возможности, которые привлекают потенциальных инсургентов и подталкивают их к насильственному перераспределению властных полномочий в собственную пользу.
По мнению авторов, синергизм экстрактивных экономических и политических институтов создает порочный круг, препятствующий экономическому и социальному прогрессу. Синергизм институтов инклюзивного типа, напротив, действует во благо общества и создает предпосылки для роста национального благосостояния. Отсюда их главный вывод, о котором я уже говорил: причины богатства и бедности конкретных стран в первую очередь определяются связкой их политических и экономических институтов, причем первые играют главенствующую роль. Инклюзивные политические институты способствуют формированию и усилению инклюзивной экономики, в то время как доминирующие в политической сфере экстрактивные институты такую экономику в лучшем случае временно терпят, а часто попросту зажимают или ликвидируют.
В заключение стоит отметить, что среди всех критических стыков авторы ставят на первое место английскую Славную революцию 1688 года, которая ликвидировала королевский абсолютизм, наделила парламент реальной властью и стимулировала экономические перемены, которые сделали возможной промышленную революцию XVIII века. В качестве примера позитивного институционального дрейфа нашего времени они приводят политическую и экономическую эволюцию Бразилии после того, как президентом страны стал Луис Инасиу Лула да Силва.
Авторы книги практически не упоминают послеельцинскую Россию, но много внимания уделяют Китаю. Здесь их выводы вполне традиционны для американской политологии: правящая элита КНР либо пойдет на демократизацию политической системы и усиление инклюзивных начал в экономике (прежде всего механизмов созидательного разрушения), либо обречет страну на замедление роста и снижение темпов технологического развития. Этот прогноз очевидным образом вытекает из их теоретической концепции.
К сожалению, Аджемоглу и Робинсон воздерживаются от аналогичного анализа будущего своей собственной страны. В последние десятилетия в США настолько ускорился процесс имущественного расслоения и идеологической поляризации общества, что многие экономисты, социологи и политологи заговорили о кризисе американской модели капитализма и американского конституционного устройства. Можно спорить о том, насколько обоснованы такие суждения, однако не подлежит сомнению, что прогрессирующее уменьшение степени инклюзивности американской экономики и политики стало свершившимся фактом. Если следовать логике Аджемоглу и Робинсона, такая тенденция безусловно негативна.
Читайте также:

